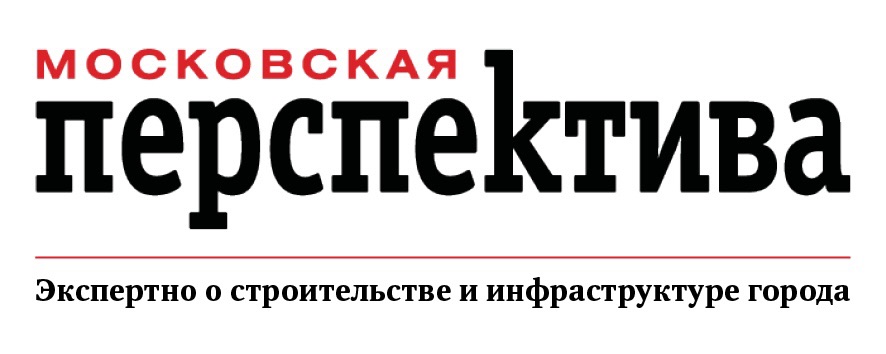«Город был виден почти до самых краев»
В рамках концепции «Золотое кольцо Москвы» запланировано появление смотровых площадок на набережных Москвы-реки. Зарезервирована под площадку и одна из самых высоких точек столичного центра – крыша здания Национального книгохранилища, которую на протяжении долгого времени занимала реклама одной корейской компьютерной фирмы, недавно она была демонтирована. Тема эта не новая: москвичи всегда гордились выигрышными видовыми точками и с удовольствием туда возили гостей города.
1. Прощание Воланда
Национальное книгохранилище не увенчивалось смотровой площадкой никогда. Тем не менее это решение – своего рода продолжение московских традиций. На доме Пашкова, находящемся по соседству и также имеющем самое прямое отношение к главной библиотеке страны, в 1818 году побывал прусский король Фридрих Вильгельм с сыновьями. Он осматривал послепожарную Москву. Генерал П. Киселев вспоминал: «Я провел их на Пашкову вышку – бельведер – в доме на Моховой, принадлежавшем тогда Пашкову, а ныне занимаемом Румянцевским музеем. Только что мы вылезли туда и окинули взглядом этот ряд погорелых улиц и домов, как к величайшему моему удивлению старый король, этот деревянный человек, как его называли, стал на колени, приказав и сыновьям сделать то же. Отдав Москве три земных поклона, он со слезами на глазах несколько раз повторил: «Вот она, наша спасительница».
А спустя столетие с небольшим отсюда прощался с Москвой Воланд из булгаковского «Мастера и Маргариты». Михаил Афанасьевич писал: «На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев.
Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг. Азазелло, расставшись со своим современным нарядом, то есть пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, неподвижно стоял невдалеке от своего повелителя, так же, как и он, не спуская глаз с города.
Воланд заговорил:
– Какой интересный город, не правда ли?»
Сам же Дом Пашкова был построен в 1786 г. предположительно Василием Баженовым. Иностранный путешественник И. Рихтер описывал его в таких словах: «Два входа ведут в дом. По ним вы достигаете верхних помещений и входите на пространную вышку в куполе дома, откуда открывается прелестнейший вид на всю Москву… Внизу два каменных бассейна, посреди которых находится фонтан… Сад и пруд кишат иноземными редкими птицами. Китайские гуси, разных пород попугаи, белые и пестрые павлины живут здесь на свободе либо висят в дорогих клетках. Ради этих диковинок и прекрасного вида по воскресеньям и праздникам собирается здесь множество народа».
Для Москвы тех времен – экзотика необычайная.
Впоследствии здесь разместили Румянцевскую библиотеку, которая продолжала пополняться и после смерти ее основателя – графа Н. Румянцева. Здесь одно время директорствовал Иван Васильевич Цветаев – отец поэтессы Марины Цветаевой и основатель Музея изящных искусств на Волхонке. А среди читателей был сам Владимир Ильич Ленин, в связи с чем библиотеке и присвоили звание Ленинской.
2. Ресторан господина Крынкина
Любоваться на Москву со склона Воробьевых гор – тоже довольно древняя традиция. Публицист И.И. Панаев вспоминал, как коллега Михаил Загоскин «угощал» его здешними видами: «Когда мы выехали из Москвы, я отдохнул несколько. Въезжая на Воробьевы горы, я было оглянулся назад.
– Нет, нет, не оглядывайтесь! – вскрикнул Загоскин. – Мы сейчас доедем до того места, с которого надо смотреть на Москву...
Минут через десять мы остановились. Загоскин попросил попавшегося нам навстречу мужика подержать лошадь, а сам повел меня к дереву, одиноко стоявшему на горе...
– Ложитесь под это дерево, – сказал он мне, – и смотрите теперь, смотрите! Отсюда лучший вид...
Я повиновался и начал смотреть. Действительно, картина была великолепная. Вся разметавшаяся Москва, со своими бесчисленными колокольнями и садами, представлялась отсюда – озаренная вечерним солнцем. Загоскин лег возле меня, протер свои очки и долго смотрел на свой родной город с умилением, доходившим до слез».
Именно здесь давали свою знаменитую клятву Герцен и Огарев. Первый из них писал в «Былом и думах»: «Мы ушли… вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.
Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу».
Впоследствии на этом месте открыли памятник в честь столь значительного события.
Во времена советские вид с Воробьевых гор своего значения не утратил. Юрий Трифонов писал в повести «Студенты»: «Иногда зимой Валя вдруг предлагала: «Поедем на Воробьевку, посмотрим на ночную Москву?» И они садились в троллейбус, долго ехали, вылезали на пустынном шоссе у темной вышки Воробьевского трамплина и смотрели на море огней внизу, беспокойное, зыблющееся, огромное... Говорили они о многом, о разном, больше всего – о людях».
До революции же здесь работал популярный ресторан господина Крынкина. Столики с видами на город пользовались популярностью. Художница В. Ходасевич писала: «Это было знаменитое место. Там можно было, правда, дорого, но хорошо поесть. Знаменитые были там раки – таких огромных я больше никогда нигде не видела. Выпивали там тоже лихо. Слушали хоры русские, украинские и цыганские. Были и закрытые помещения, и огромная длинная открытая терраса, подвешенная на деревянных кронштейнах-балках, прямо над обрывом. На ней стояли в несколько рядов столики. Очень интересно было сверху смотреть на всю Москву (именно всю, так как во все стороны видно было, где она кончалась, – не так, как теперь). Я никак не могла понять, почему про Москву говорят «белокаменная». Ведь с террасы Крынкина я видела в бинокль главным образом красные кирпичные дома. Особенно мне нравилось наблюдать веселую жизнь внизу по склону, среди деревьев. Мелькали маленькие яркие фигурки, то скрываясь, то появляясь. Взлетали на качелях девушки и парни, визжали, играли в горелки и прятки. Я готова была просидеть или даже простоять, наблюдая все происходящее, хоть целый день».
Реклама сообщала: «Самый лучший вид на Москву открывается с огромных террас, из общей зимней двухсветной залы, отделанной в русском стиле, и кабинетов первоклассного ресторана Е.Г. Крынкина».
Над большой террасой на случай ненастной погоды сделаны сборные гигантские тенты.
Ресторан с 1908 года функционирует круглый год; зимой дороги всегда очищены от снега. Предприимчивые хозяева с нынешней зимы устраивают для посетителей катанье с горы от самого ресторана до реки на санках и лыжах («Московская Швейцария»); кроме этого предполагают устроить сообщение по Москве-реке на оленях. Для пикников и заказных обедов, кроме уютных кабинетов, имеются отдельные помещения.
На эстраде играет оркестр перновского полка и поют русский и малороссийский хоры.
Прекрасные кушанья под наблюдением первоклассных кулинаров-поваров и кавказская кухня под наблюдением известного шефа Серго. Лучшие вина.
При ресторане всегда к услугам публики автомобили».
Крынкинское дело продолжало процветать.
3. Трехрублевая панорама
Виды с Москвы-реки – опять-таки не новое изобретение. Самый знаменитый открывается на Кремль с Большого Каменного моста. Телевизионные операторы до сих пор используют его, что называется, и в хвост и в гриву и по традиции зовут между собою «трехрублевым» – в брежневские времена именно эта панорама украшала банкноту соответствующего достоинства. Сам же вид был заставкой к главной телевизионной программе той эпохи – программе «Время».
Сам мост – тоже достопримечательность. Главный герой уже упоминавшихся «Студентов» Трифонова восхищался: «Он останавливается на могучем бетонном взгорье – на середине моста.
Большой Каменный!
Самый красивый мост в мире. Теперь он не сомневается в этом, – он видел мосты в Праге и в Вене и множество других мостов в разных странах. Отсюда город кажется беспорядочно тесным – улиц не видно, дома воздвигаются один над другим в хаосе желто-белых стен, карминных крыш, башен, облепленных лесами новостроек, искрящихся на солнце окон. Но по отдельным знакомым зданиям можно угадать улицы: вон блестит стеклянная крыша Пушкинского музея, левее, у самого берега, раскинулась строительная площадка – еще до войны здесь начали строить Дворец Советов, – как огромные зубья, торчат в круге массивные опоры фундамента. А по правую руку – высоко на холме Кремль. Старинные башни, подернутые сизой, почти белой у подножия патиной, и гряда зелени за стеной, на кремлевском дворе, а над зеленью – стройный, белогрудый дворец с красным флагом на шпиле.
Сколько раз до войны видел он эти башни и ели и этот гордый дворец, видел зимой и летом, на солнце и под дождем, из окна троллейбуса и с набережной, – сейчас у него такое ощущение, словно он видит все это впервые. И впервые видит сказочную красоту Кремля, чудесней которой нет ничего на земле».
4. Главная ценность – экзотика
Одной из самых «статусных» обзорных точек Москвы долгое время считалась смотровая площадка на Останкинской телевизионной башне. Она была построена в 1967 году в районе тогдашних новостроек, и данное обстоятельство снижает ценность этого объекта. Смотреть со смотровой площадки по большому счету не на что. Вокруг – плоские крыши одинаковых скучных домов, гаражи, складские помещения, промзоны. Радует разве что вид на Останкинский парк с дворцом и очаровательной красной церковкой, а также ВВЦ со своими многочисленными павильонами, аттракционами и романтичными аллеями. Но и для этих наблюдений лучше было бы выбрать ракурс пониже.
Так что Останкинская башня привлекала посетителей не столько открывавшимися с нее видами, сколько экзотичностью самого объекта.
5. На высоте 72 метров над ВВЦ
Если с Останкинской телебашни видно ВВЦ, то и с ВВЦ прекрасно видно Останкинскую телебашню. Особенно с колеса обозрения, возведенного в 1994 году. Высота его 72 метра, и на момент постройки оно было самым высоким в Европе.
Кабинки здесь двух типов – открытые и закрытые. В закрытых просто страшно, а в открытых страшно до безумия. Висеть над Москвой на такой высоте, сидя практически на табуретке, – удовольствие не для слабонервных. Интересно, что цена билета на открытую кабинку выше – за адреналин надо платить.
Зато сам выставочный комплекс обозревается отсюда гораздо лучше, чем с телевизионной башни. Он был заложен в 1939 году на месте заброшенного пустыря, примыкавшего к Останкинскому парку. Сначала организовали временную выставку, но впоследствии решили сделать постоянную экспозицию. Первое время павильоны разделялись не по профилям («Металлургия», «Свиноводство», «Здоровье»), а по регионам. Особенной любовью пользовался павильон Грузии. Путеводитель по Москве 1947 года сообщал: «Пологие ступени между четырехствольными колоннами вестибюля, шелест фонтанов в маленьких красивых бассейнах. За центральным залом – сад-оранжерея. С пышных ветвей цитрусовых растений свисают налитые соком лимоны, апельсины. На украшенных национальными орнаментами стендах показано все, чем богаты плодородные земли солнечной Грузии: горки отборных плодов, овощей, хлебных злаков, хлопок, чай, всевозможные экспонаты животноводства, пчеловодства, виноградарства, изделия из сельскохозяйственного сырья».
Неудивительно – ведь государством управлял Иосиф Сталин.