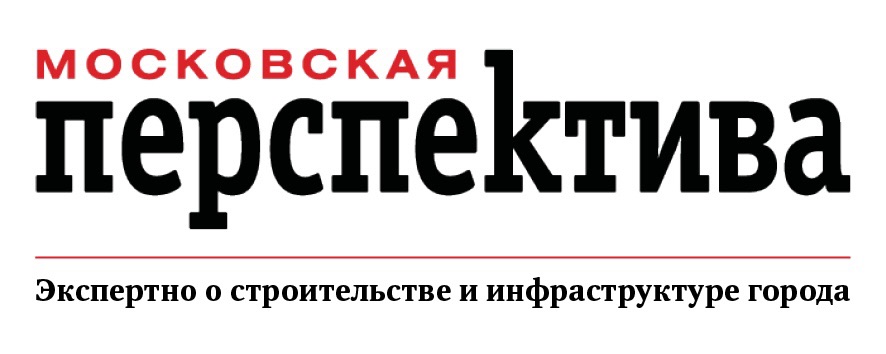Как спорные среди современников здания становятся символами города

Чаще всего в качестве примера приводят парижскую Эйфелеву башню, которую в первые годы ее существования парижане требовали разобрать, а Ги де Мопассан (не только писатель, но и, вслед за Виктором Гюго, градозащитник и мифотворец Парижа) ненавидел настолько, что ходил обедать в открытый там ресторан – мол, только там вид не испорчен самой башней. Однако только ли она: спорными постройками были и собор Святого Семейства Антонио Гауди в Барселоне, и Хрустальный дворец в Лондоне (не сохранился, но стал прародителем множества выставочных комплексов по всему миру), и – возвращаясь к Парижу – монмартрская базилика Сакре-Кёр.
Предметами ожесточенных и порой не самых вежливых архитектурных дискуссий крупные новостройки начали становиться тогда, когда прогресс в материалах и технологиях позволил строить их быстрее, чем зрители-неспециалисты привыкали к новой эстетике. Это произошло в середине XIX века – одновременно с газетным бумом, который предоставил критикам отличную площадку для споров о прекрасном и безобразном. Иными словами, нет ничего удивительного в том, что многие знаковые для истории архитектуры и соответствующих городов здания в своей «юности» оказались в центре жесткой полемики.
Москва здесь не исключение – градостроительство вообще такая отрасль жизни, что исключений не допускает. Даже в сталинский период, когда архитектурный облик столицы утверждался директивно, законы развития города продолжали действовать. Итак, ровно в середине XIX века – тогда же, когда и во всех крупнейших городах мира, – в Первопрестольном городе (и это не синоним ради синонима, а официальное название Москвы в документах петербургского периода) начали появляться здания, о которых спорили и которые даже проклинали, но в итоге они стали символами древней столицы.
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Если уж искать московское здание образцово-сложной судьбы – то и искать, собственно, не надо. Храм Христа Спасителя на Волхонке, памятник победе над Наполеоном в войне 1812 года, строился почти 60 лет, за это время сменились проект, площадка и два императора (закладка состоялась в начале царствования Николая I, полное освящение – уже при Александре III). Тот облик, который мы знаем сейчас – манифест «русско-византийского стиля» Константина Тона середины XIX столетия, – заметно устарел к моменту освящения (тем более что внутренним убранством собора занимались без малого два десятилетия). И потому – даже при том, что никакой дискуссии о необходимости национального стиля в архитектуре не велось, с этим были согласны все современники, – подвергался нещадной критике.
Но мало было того, что «пряничный» стиль Тона (не так заметный, скажем, в его железнодорожной архитектуре или в Большом Кремлевском дворце) устарел. Сам объем – гигантский по меркам тогдашней Москвы, да и сейчас внушительный – был непривычным. «Сундук», «комод» – храм Христа Спасителя честили словами и похлеще.
Отчасти именно поэтому при советской власти собор удалось снести без особого сопротивления. Конечно, спорить с тогдашними генпланами, спасая церковные здания, было бесперспективным занятием. Но размеры и стоимость здания могли бы в ином случае сыграть свою роль, и храму придали бы светскую функцию, чтобы не уничтожать такую капитальную постройку. Подобная линия аргументации была возможна. Однако большинству архитекторов и искусствоведов слишком памятно было, что храм –
строение «спорное». И заступаться за него было как-то… странно, что ли.
Однако же после взрыва в декабре 1931 года оказалось, что со временем громоздкий силуэт собора, запечатленный на множестве фотографий, стал одним из символов дореволюционной Москвы (как раз эпохи расцвета черно-белого городского пейзажа). Именно поэтому храм оказался для московского «коллективного бессознательного» настолько важен, что власти пошли на его воссоздание.
ОСОБНЯКИ ИГУМНОВА И АРСЕНИЯ МОРОЗОВА
Притом что Москва никогда не переставала быть столицей российского барства, крайне малое количество дворцов и особняков московских дворян (вот разве что дом Пашкова, стоящий на высоком холме) оказались визуально столь же значимыми, как более поздние особняки купечества. Может быть, дело в том, что именно на поздний XIX и ранний ХХ век пришелся пик архитектурной выразительности таких построек: стиль барских дворцов, пусть и богатых, более традиционен, а после 1917 года особняки и вовсе стали товаром штучным.
Как минимум два московских купеческих особняка – дом Игумнова на Большой Якиманке (1888–1895, ныне резиденция посла Франции) и дом Арсения Морозова на Воздвиженке (1895–1899, ныне Дом приемов правительства России) сразу после постройки были приняты публикой в штыки. Первый из особняков ругали за тяжеловесность: архитектор Николай Поздеев, родом из Ярославля, будто бы слишком увлекся подражанием древнерусским теремам и сделал особняк чересчур «узорочным». Кроме того, интерьеры в особняке, как писали после окончания его строительства, не сочетаются друг с другом. Что и понятно: Николай Поздеев скончался в 1893 году, внутренней отделкой пришлось заниматься его брату Ивану и архитектору Петру Бойцову. К тому же хозяин – владелец Ярославской Большой мануфактуры Николай Игумнов – обставил дом коллекционными европейскими предметами XVII столетия.
Что касается особняка Арсения Морозова, построенного по проекту его друга и в своем роде «гуру» Виктора Мазырина, – в пословицу вошла фраза матери Арсения Варвары Алексеевны, жившей по соседству: «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь будет знать вся Москва». Варваре Морозовой (как и многим другим представителям старшего поколения) не понравилась экзотичность экстерьера – особняк в неомавританском стиле был явно навеян впечатлениями от дворца Пена (в Синтре). Льву Толстому, похоже, дом тоже не понравился: в романе «Воскресение» (1899) есть пассаж о «глупом ненужном дворце глупого ненужного человека» – это как раз об особняке на Воздвиженке.
Со временем, однако, стало очевидно, что все эти «неостили» – и неорусский, и неоготический, и неомавританский – имеют между собой больше общего, чем различий. Что все это ответвления модерна (ар-нуво), а на фоне модернистской архитектуры 1920-х годов и более позднего периода такие дома – «старый добрый московский стиль». Кстати, архитектура авангарда сломала визуальные стереотипы так, что против дома Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке – смелой конструкции из двух цилиндров – уже никто не высказывался: привыкли.
ДОМА-КОММУНЫ
Во времена расцвета конструктивизма, впрочем, все-таки были предметы для градостроительной полемики. Например, дома-коммуны – самое радикальное и умозрительное, по моде 1920-х годов, решение жилищного вопроса. С позиций «мещанства» (у человека, семьи должен быть свой дом, а не «жилая единица») выступать в прессе было опасно, да и мало кто из редакторов взялся бы публиковать такое. Но хватало и «процессуальных» возражений: проекты домов-коммун часто бывали сырыми, качество строительства неважным.
А там, где архитектор и его команда стремились выдать именно максимальное качество (как у коллег из Германии и Франции), появлялись возражения иного рода. Архитектор Иван Николаев в 1930 году несколько месяцев ожидал ареста после своеобразной «рецензии» на его дом-коммуну на улице Орджоникидзе со стороны знаменитого журналиста Михаила Кольцова. Очерк под названием «Акробаты кстати» вышел 4 июля 1930 года вслед за постановлением ЦК «О работе по перестройке быта»
(16 мая 1930 года); автор был возмущен бездумной растратой государственных ресурсов (в данном случае – металла на арматуру для железобетона) на неиндустриальные стройки.
«Чтобы показать смелость архитектурных форм, авторы студенческого дома перехлестнули все самые высокие нормы потребления остродефицитных материалов, существующие даже в промышленном строительстве, – пишет Кольцов. – По балкам превышение самых высоких норм составляет 122 процента. По цементу – 218 процентов. А по самому кризисному материалу, по сортовому железу, гениальные зодчие хватанули 780 – почти 800 процентов».
Постановление ЦК было, конечно, о том же: ресурсы нужно вкладывать в заводы, а жилье можно строить и по старинке, подешевле. Николаева, впрочем, не тронули – а его дом, хоть и обруганный при постройке, превратился в одну из мировых достопримечательностей для ценителей авангарда наряду с домами-коммунами на Гоголевском и Новинском бульварах.
Примеры поначалу спорных, а впоследствии ставших символами и памятниками домов можно приводить и дальше. Пожалуй, этот механизм – сначала полемика, потом привыкание, а затем и всенародная любовь – действует и в наши дни: скажем, сейчас мы уже привыкли к ужасно спорному когда-то памятнику Петру I. А значит, встречая критику нового строения, почти наверняка можно утверждать: и это пройдет.