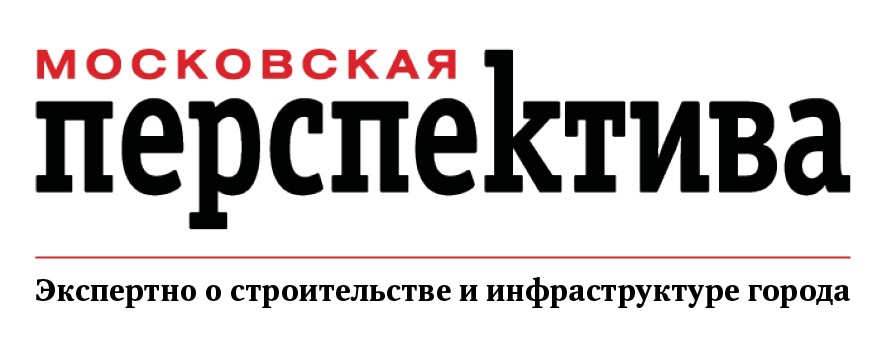Музей как центр коммуникаций: в этом году знаменитый МУАР отмечает 90-летие


[МП] Наталья Олеговна, у музея довольно необычная судьба…
– И непростая. Сначала он занимал территорию Донского монастыря. В 1945 году по инициативе Алексея Викторовича Щусева был основан Музей архитектуры на улице Воздвиженке, 5 (тогда Коминтерна). В 1964 году оба музея объединили. В 1990-х, когда Донской монастырь возвратили Русской православной церкви, из него вывезли все фонды и разместили их в новом здании. Оно оказалось настолько переуплотнено, что на долгие годы музей был обречен на стагнацию. С этого времени у него нет постоянной экспозиции, и свою миссию – рассказ об архитектуре разных эпох и регионов –
мы реализуем, проводя временные выставки.
[МП] История МУАРа связана с судьбами выдающихся людей. Как сегодня оценивается их вклад в его развитие?
– Каждый руководитель приносил музею пользу в меру своего таланта и возможностей. Особую роль в истории учреждения сыграли Алексей Щусев и Давид Саркисян. Алексей Викторович получил признание как архитектор еще до революции и все последующие советские десятилетия оставался не только признанным зодчим, но и уважаемым общественным деятелем. Помимо архитектурной практики, он занимался научной деятельностью, охраной наследия, преподавал. Щусев создал музей для того, чтобы рассказывать об отечественной архитектуре так же, как в Третьяковской галерее рассказывают о русском изобразительном искусстве – подробно, с гордостью и любовью.
Яркий период в жизни музея связан и с Давидом Саркисяном. Все, кто общался с ним, попадали под обаяние этой личности. Он и Щусев были очень разными людьми с профессиональной точки зрения. Если Алексей Викторович прекрасно разбирался в музейном деле (он специально ездил за границу для изучения передового опыта, много общался на эту тему с Игорем Грабарем, писал статьи), то Давид Ашотович был талантливым организатором и популяризатором. Это помогло ему сохранить музей в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Кстати, именно Саркисяну мы обязаны неофициальным, но очень популярным наименованием МУАР. И моя предшественница Елизавета Лихачёва за пять лет своей работы на посту директора совершила чудо. Я искренне считаю, что она подняла музей в публичном пространстве на ту высоту, которой он никогда не достигал ранее.

[МП] Какова посещаемость музея сегодня?
– В прошлом году у нас побывало 190 тыс. человек. И это впечатляющая динамика. Например, за 2017 год к нам пришли 17 тыс. человек – на порядок меньше, чем сейчас. Мы стараемся работать с разными людьми – и с профессиональным сообществом, и с любителями архитектуры. Особые условия создаем для детской и подростковой аудитории. К каждой выставке готовим по две-три экскурсии, рассчитанные на разные возрастные группы. Большой популярностью пользуется наш просветительский центр, в котором могут заниматься и взрослые. В шутку мы говорим: «Наши творческие мастерские рассчитаны на возраст от 5 до 95 лет».
[МП] Каков ваш штат и какие специалисты в него входят?
– Сегодня в штате МУАРа 135 сотрудников – это совсем небольшой коллектив. Примерно половина – хранители, научные сотрудники, специалисты по просветительской работе. Каждый человек для нас является огромной ценностью.
[МП]С торца здания уже несколько лет мы видим одну и ту же афишу – фрески Калязинского монастыря. С чем связан ваш постоянный интерес к этой теме?
– Основанием для постоянного экспонирования калязинских фресок является высокая ценность этой живописи и та роль, которую сыграли специалисты Музея архитектуры в ее спасении. Известно, что при проектировании Угличского водохранилища в зону затопления попал Троице-Макарьевский монастырь в городе Калязине. Обитель, основанная в XV веке, была одной из самых почитаемых на Руси, с паломническими целями ее посещали русские монархи. В середине XVII века здесь спасалась от эпидемии чумы семья царя Алексея Михайловича. До этого монастырь пострадал от польского нашествия. Царь сделал вклад в строительство и роспись нового Троицкого собора. Так был создан один из выдающихся образцов русской монументальной живописи. Перед затоплением монастыря в 1940 году реставраторы, включая и сотрудников Музея архитектуры, провели обследование – фотофиксацию и обмеры зданий обители – и сняли часть фресок со стен собора для их сохранения. Это был великий подвижнический труд. Сложностей было множество: суровая зима с морозами ниже 30 градусов, отсутствие строительных лесов для работы на высоте, проблемы с материалами, сжатые сроки. Около 140 фрагментов фресок были сняты со стен, законсервированы и доставлены в Музей архитектуры. Несколько фрагментов оставили в Калязинском краеведческом музее. Отдельные части передали в Музей имени А. Рублева, Русский музей, Государственный исторический музей, 103 фрески остались у нас. Вот эту важную историю о русской духовной культуре и о подвиге специалистов-подвижников мы представляем в наших залах.
Не буду в подробностях рассказывать, как производили снятие фресок, их консервацию и прочее. Это по-настоящему ювелирная работа.

[МП] Какую часть музея занимают фондохранилища?
– Фондохранилища находятся в главном здании. Весь второй этаж занимают выставочные пространства и реставрационная мастерская графики, а для хранения фондов отведены третий этаж и часть первого, всего около 1,6 тыс. кв. метров. Это очень скромно по общепринятым правилам. Там находятся 840 тыс. экспонатов, среди них многие достойны быть представленными публике постоянно.
[МП] Каким в идеале должен быть музей архитектуры?
– Сейчас общая площадь музейного комплекса составляет 5,5 тыс. кв. метров, но этого не хватает для полноценной музейной деятельности. В идеале необходимо современное здание для постоянной экспозиции, фондохранилища и реставрационных мастерских, а усадебный комплекс на Воздвиженке важно отреставрировать и сохранить за комплексом. Здесь должны проходить выставки и просветительские мероприятия, работать детский центр. Музей является особо ценным объектом наследия народов России, и в этом качестве он связан со своим историческим пространством.
[МП] Какие экспонаты из вашей коллекции имеют особую ценность, являются уникальными?
– В музейном собрании каждый предмет уникален. Но из числа исключительных могу назвать авторскую модель Большого Кремлевского дворца времен Екатерины II, которую в течение 10 лет в своих мастерских выполнял Василий Баженов. Этот проект не был реализован. У нас также хранится авторская модель Казанского собора в Санкт-Петербурге А. Воронихина. В собрании 140 тыс. единиц авторской графики разных времен. Эти материалы ценны и с документальной точки зрения, и с художественной, потому что в прежние времена чертежи выполняли очень красиво. Мы регулярно взаимодействуем с реставраторами архитектуры и исследователями, они используют наши материалы в своей работе.
[МП] На какой стадии сейчас находится реставрация дома-мастерской Константина Мельникова, являющегося филиалом МУАРа?
– Всё идет по утвержденному плану. Возле дома организован строительный городок, работает мастерская по реставрации деревянных изделий – оконных рам, дверей. Возведены леса и временная строительная кровля, чтобы в теплый сезон провести работы с крышей и фасадами. Внутри дома идет расчистка поздних красочных слоев, выполняются зондажи. Это делается для того, чтобы определить оригинальные цвета интерьеров.
[МП] Актуальна ли для вас тема современной архитектуры?
– Да, конечно, и так было на всех этапах существования музея. Он и создан был, собственно, архитекторами. Коллекция всегда пополнялась материалами и по истории архитектуры, и по новому строительству. Для нас важно включать современные проекты в исторический контекст, выявлять и анализировать тренды в развитии архитектуры. Иногда интересно показать художественные работы архитекторов, которые продолжают рисовать, несмотря на то что проектирование ушло в цифровой формат. В 2022 году прошла выставка «Москва. Реальное», организованная в партнерстве с Москомархитектурой и посвященная наиболее ярким современным проектам, реализуемым в столице. Подобные мероприятия направлены на повышение знаний в области актуальной архитектуры, воспитание вкуса публики. Недавно мы открыли выставку, повествующую о творчестве Владимира Кубасова. Еще до его ухода обсуждали с ним перспективу издания книги. А после смерти архитектора его дочь в соответствии с волей отца передала на хранение в музей его творческие архивы. Это, конечно, был мастер со своим лицом. А главное, он принадлежит к поколению тех, кто заложил основы архитектуры нашего времени. Вот эту непрерывную линию развития архитектуры мы, конечно, с интересом представляем.
[МП] Каковы планы музея на юбилейный год?
– Мы готовим, как и всегда, выставочные проекты, посвященные архитектуре разных авторов, регионов и периодов. Осенью состоится большая юбилейная выставка, которую мы задумываем как прообраз постоянной экспозиции музея. Важные события – выставки «Шедевры из коллекции Музея архитектуры им. А.В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» в трех городах России – Хабаровске, Архангельске и Пскове. Они реализуются в рамках нацпроекта «Культура». Из Хабаровска, где экспозиция уже работает, мы получаем положительные отклики и от широкой публики, и от профессионального сообщества.
Главная наша задача на текущий год и все последующие – развитие музея как площадки для коммуникации людей, интересующихся архитектурой. Это сообщество складывалось десятилетиями. В него входят и профессионалы, и любители, и, конечно, дети, молодежь, потому что для нас важно воспитать поколение людей, понимающих и ценящих этот вид искусства. Музей должен быть центром открытого и увлекательного диалога об архитектуре в самых разнообразных форматах.