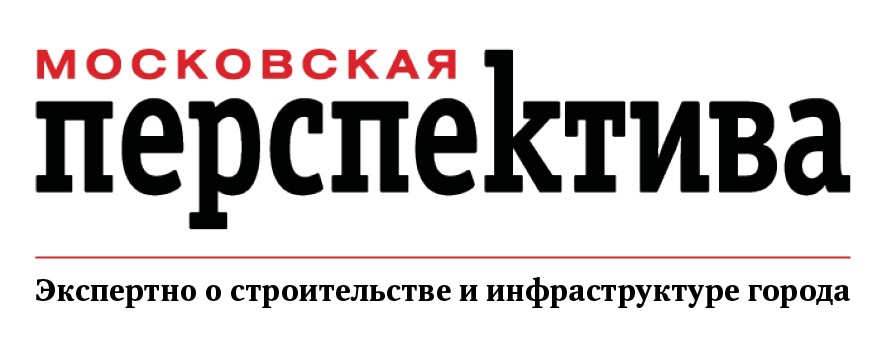Как образ женщины повлиял на архитектуру

Начало традиции положила античная Греция. Именно там древние зодчие обратились к женским образам, поняв вслед за скульпторами, как могут украсить женские фигуры обычные фасады и интерьеры зданий, придать им живость и даже привнести определенный смысловой посыл обычному человеку, способному оценить истинную красоту. В те времена античные мастера украшали языческие храмы фигурами прекрасных богинь, которые являлись символами плодородия, мощи, гармонии и красоты.
Отметим: изучение этого вопроса наводит на многие другие исторические, социокультурные темы. Например, греки считали, что велением богов внутренняя красота всегда подчеркивается красотой внешней. На заре цивилизации перед человечеством еще не встал вопрос, может ли носитель внешней красоты быть негодяем или злодеем.
Главным персонажем, украшавшим храмы Древней Греции, стала богиня мудрости, военной стратегии и тактики Афина. Самый яркий пример тому – древнегреческая скульптура, изображающая покровительницу столицы Древней Греции. Статуя выполнена в V веке до н. э. скульптором Фидием и установлена на холме Акрополь в главном храме – Парфеноне. Выполненная из слоновой кости и украшенная золотом, скульп- тура достигала высоты 12 метров. Просуществовав почти десять веков, она сгорела в пожаре в V веке нашей эры. До нас она дошла благодаря многочисленным рисункам, по которым можно представить, какие внешние качества наиболее всего ценились во времена античности, и порассуждать и на тему женского стандарта красоты того периода. Судя по Афине, античное общество ценило хорошие пропорции, мощное телосложение, плавность форм и волевые черты лица. Во всяком случае, главная героиня греческого эпоса являла собой именно такие внешние свойства.
Скульптура в виде женской богини закрепилась в творчестве древних зодчих, но со временем трансформировалась в еще более важный и популярный элемент строительства – кариатиду. Такая вертикальная опора оказалась настолько популярной, что пережила века и долгие столетия использовалась практически в любом архитектурном направлении. Возникла она из самых практических и утилитарных потребностей: важно было создать элемент, способный заменить колонны и пилястры, уже испытанные в качестве поддерживающих конструкций, но довольно однообразные. Каменные женщины в туниках оказались в этой связи очень кстати. Функциональность кариатид заключалось не только в том, что они поддерживали элементы зданий. Они олицетворяли собой красоту, но при этом, в отличие от, например, Афины, не были конкретными героинями античного мира. И поэтому зодчий мог позволить себе самые разные вольности – не только обнажить верхнюю часть фигуры, но при этом оставить ее образцом целомудрия, а также украсить ее любыми другими условными элементами.
Само слово «кариатида», ставшее архитектурным термином, восходит к названию города Кария. Девушки из этого города исполняли религиозные танцы с корзинами на головах и воспевали древнегреческую богиню Артемиду. Этим так вдохновись зодчие, что запечатлели их в своих творениях. Красивая легенда имеет и свою противоположную сторону. Некоторые исследователи считают, что девушки из Карии были всего лишь дамами с низкой социальной ответственностью. И статуи женщин, поддерживающих здания, это ни что иное, как их образы, превращенные в камень за соответствующее поведение. Наказанные богами, они держат на себе всю тяжесть зданий, мучаясь и являя собой назидательную идею всем тем, кто продолжает жить на Земле и помышляет о распутном поведении.
Украшением фасадов многих привычных в старых городах зданий являются и маскароны. Считается, что этот элемент появился еще в Древнем Египте. Там маски чаще всего изображали мифологических персонажей или мифических существ. Их помещали на замковые камни арок, устанавливали на карнизах либо наличниках оконных или дверных проемов. В Древней Греции маскароны тоже выполняли культовые функции – служили в качестве стражей. Например, многие храмы охраняла голова горгоны Медузы, которая как бы отражала от них всякое зло.
В Средние века маскароны стали аллегориями на христианские добродетели или грехи. В эпоху Возрождения появились гротескные изображения, например, в виде виноградного листа с человеческими чертами. С появлением стиля барокко мода на изображение горгоны Медузы вернулась. К ним, правда, добавились головы варваров, а также аллегории эмоций. Когда маски стали носителями эмоций, архитекторы отметили, что это придает настроение бездушному, хотя и красивому камню. Не пропали маскароны и в период классицизма, хотя градус эмоций стал ниже. И сами они стали нести чисто эстетические функции. Модерн расширил возможности этого элемента. Храмы Мельпомены стали украшать театральные персонажи, военные – воины в шлеме или образы божественных покровителей армейского дела. Использованием масок увлекались и строители обычных гражданских объектов.
За выразительность и красоту зодчие отдавали явное предпочтение женским образам, украшая ими фасады зданий и сооружений самых разных функций. И Москва демонстрирует множество примеров на эту тему. Так, практически полноценное скульптурное изображение девушки, оседлавшей коня, являет собой дом Фирсановой на улице Неглинной. Женская фигура не является несущим элементом здания. Ей «доверены» всего лишь декоративные функции. Но какой красотой она наделяет здание! Она не только мчится на коне, но еще и играет на арфе. То есть демонстрирует собой то важное, чем наделила женщин природа, – умение выполнять одновременно несколько действий. До революции эта часть особняка принадлежала комплексу Сандуновских бань, поэтому лошадь изображена выпрыгивающей из морской пены. Архитектор Адольф Эрихсон украсил особняк в Басманном районе двумя женскими масками – серьезными и даже строгими. Они являются продолжением колонн, которые держат балкон. Причем барельеф над их головами выглядит как стопка книг, с которыми благородные девицы как будто бы учатся держать осанку. Такой декор архитектору заказал немецкий купец Прове, будущий владелец здания.
Усадьба на улице Воронцова поля долгое время носила название «дом трех врачей» и с течением времени переходила в собственность медиков Федора Зандена, Константина Розенова и Анны Оттен. Первый ее владелец – Занден – заказал архитектору сдержанное оформление дома. Однако женские головы под его крышами одобрил. Они обрамлены растительным орнаментом, имеют массивные серьги в виде крупных бутонов. Критики часто отмечают скептические выражения их лиц. Что и понятно: дамы смотрят на жителей сверху вниз, как бы намекая, а не пора ли к врачам – просто провериться.
Один из самых ярких образцов использования «женского начала» является дом Петра Разумовского-Задунайского на Маросейке. Здесь кариатиды поддерживают огромный балкон зданий, установленный им на «плечи». Руки фигур свободны, у некоторых они сложены на груди. Как утверждают специалисты, дамы появились на здании не сразу, а лишь спустя 100 лет после завершения строительства. Купец Митрофан Грачёв, ставший владельцем объекта после Разумовских, решил оживить его с помощью прекрасных фигур в струящихся тканях с разными предметами в руках. Женщины олицетворяют земледелие, скотоводство и свободные художества.
Муза с кудрявыми волосами на остоженском особняке Льва Кекушева, девушка с грустным лицом на доме на Арбате, 24, – все это примеры того, как осваивали древний элемент зодчие прошлого века, обогащая стиль модерна. Усвоив традиции античности, московская архитектура сталинского периода вернула женские образы в отделку зданий. Вслед за многочисленными женщинами с веслом в парках и скверах фигуры женщин возникли на крышах зданий и барельефах фасадов. Носительницы этих самых разных профессиональных занятий были призваны нести собой конкретный социальный заказ, демонстрировать равенство с мужчинами и большие возможности в качестве строителей коммунизма. Сейчас этот прием используется гораздо реже. Зодчие предпочитают более сложные формы, ассоциирующиеся с самыми разными темами и образами. Но женское начало никуда не ушло. Вспомним «танцующий дом» в стиле деконструктивизма архитектора Френсиса Гэри, возведенный в столице Чехии Праге. Вряд ли его форма ассоциируется с мужским характером.
Есть и московские примеры. Проанонсированный недавно офисный центр ГК Stone «Stone. Мнёвники» в Мнёвниковской пойме архитектора Николая Переслегина представляет собой современное «прямоугольное» здание cложной формы. Но вглядимся в него внимательнее. Главный корпус БЦ напоминает подарочную женскую сумочку, полную всякой приятной предпраздничной мелочью. Такие вошли в наш обиход сравнительно недавно, но уже вызывают определенные ассоциации, вполне сочетающиеся с архитектурными формами.